Лишь один сюжет остаётся вне поля зрения учёных, изучающих Куликовскую битву: погребение павших во время сражения воинов. Такое положение объясняется несколькими причинами. Во-первых, фактическим отсутствием свидетельств исторических источников. Действительно, ни летописи, ни тексты поздних "Задонщины" или "Сказания о Мамаевом побоище" (далее: "Сказания") не сообщают по-настоящему достоверной информации о судьбе останков павших с обеих сторон ратников. Только лишь во II Остермановском томе так называемого Лицевого свода, составленном на основании Никоновской летописи в 1568-1576 годах, помещена миниатюра, изображающая похороны убиенных на Куликове поле русских воинов в "скудельнице"1.

Во-вторых, многолетние археологические разведки непосредственно на месте битвы не увенчались успехом. По сию пору на поле так и не было обнаружено ни одного мало-мальски обнадёживающего признака массового захоронения человеческих тел. Попробуем разобраться, где и как могли быть погребены ратники Дмитрия Донского и их противники ордынцы.
Сколько их было?
Прежде всего необходимо уяснить приблизительное количество воинов, которые могли участвовать в сражении с обеих сторон. Два наиболее известных литературных памятника так называемого Куликовского цикла - "Задонщина" и "Сказание" - сообщают о колоссальной военной силе, которую великий князь Дмитрий Иванович вывел на битву с ордынцами Мамая. Так, по свидетельству Пространной редакции "Задонщины", по списку ГИМ, русских было 300 тысяч ратников, из которых половина полегла в сече. "Сказание" (вариант В. М. Ундольского) называет ещё большее число воинов - 400 тысяч "кованой рати". Основная редакция "Сказания" по Ермолаевскому списку определяет общую численность войск Дмитрия Ивановича приблизительно в 200 тысяч человек2. Наконец, по подсчету В. А. Кучкина, в одной из переработок "Сказания", датируемой XVII веком, эта цифра достигла совсем уже несуразной величины - 1460 тысяч человек3.
Поэтому вполне логичен вывод А. О. Амелькина о том, что "один из первых мифов, связанных с Куликовской битвой, - представление о сотнях тысяч собравшихся здесь воинов"4. Впрочем, происхождение и широкое распространение этого мифа вполне понятно. Откровенную неточность средневековых книжников необходимо рассматривать как обязательный литературный приём, используемый всеми без исключения авторами.
Определить реальное число воинов великого князя, сражавшихся на Куликовом поле, между тем вполне возможно. Для этого нужно получить хотя бы приблизительные ответы на несколько важных вопросов. Во-первых, имелись ли в составе великокняжеских полков городские пешие ополчения, состоящие из воинов-непрофессионалов? Во-вторых, каковы были мобилизационные возможности княжеств Северо-Восточной Руси в последней четверти XIV столетия? И, в-третьих, военные силы каких именно княжеств выступили на помощь правителю Москвы?
Начнём по порядку. Анализируя летописные и нарративные тексты, Кучкин пришёл к заключению об участии в битве исключительно конных ратников, иными словами, дружинников-профессионалов. Свои наблюдения учёный подкрепил ещё и тем соображением, что за 12-14 дней, отпущенных для сбора войска, "пешцы" вряд ли бы смогли быстро прибыть в Москву или даже Коломну, дабы успеть соединиться с основными силами5. Однако аргументацию маститого исследователя можно существенно дополнить.
Смешанное средневековое войско, имеющее в своём составе и конницу, и пехоту, лишается такого важного качества, как мобильность. Оно обременено колоссальным тихоходным обозом, быстрота его продвижения к месту схватки с врагом всецело зависит от физических возможностей пеших ратников. Дмитрию же Ивановичу требовалось не только быстро собрать войско для отпора "находникам", но и не мешкая перехватить их "в поле", не позволив разорить и "запустошить" заселённые территории Владимирского и Московского великих княжеств. Думается, своевременно исполнить сей манёвр при наличии пеших ополченцев было бы немыслимо. И, наконец, главное: до эпохи "пороховой революции", когда пехотинцы получили в руки огнестрельное оружие, весьма затруднительно говорить об их эффективном противостоянии с конницей в открытом поле. Вероятно, поэтому в крупных полевых сражениях, которые происходили на территории Восточной Европы в XIV веке, не отмечено участия сколько-нибудь заметных отрядов пехоты, набранных к тому же из непрофессиональных воинов.
Первые достоверные сведения о численности русского войска, отправившегося под водительством самого монарха в поход на врага, относятся к 1563 году, когда Иван Грозный собрал рать для захвата Полоцка. Ранее того времени подобных свидетельств не обнаружено. Именно поэтому большинство историков и филологов, изучавших обстоятельства побоища на Куликовом поле, вынуждены оперировать цифрами, сообщёнными средневековыми книжниками в летописях и нарративных памятниках. Одни принимали их без каких-либо корреляций, оценивая количество отечественных ратоборцев, собранных для участия в сражении, от 100-150 (М. Н. Тихомиров6, Л. В. Черепнин7) до 200 и даже до 400 тысяч (С. Б. Веселовский8) человек. Другие пытались скорректировать показания источников, определяя число воинов от 30 (Г. В. Вернадский9), или 40-45 (А. Н. Кирпичников10), или 50 (М. Г. Рабинович11), или 70 (Л. Г. Бескровный12), или 100 (В. И. Буганов13), и до 170 тысяч (Кучкин14) человек.
Однако никто из учёных не принимал во внимание мобилизационные возможности княжеств Северо-Восточной Руси. Первым обратил внимание на эту проблему воронежский исследователь Ю. В. Селезнёв. По его расчетам, на рубеже XIV-XV столетий правитель Москвы, опираясь на людские ресурсы подконтрольных ему Владимиро-Московского и Нижегородско-Суздальского великих княжеств, мог выставить на бой около 8250 конных ратников и 25 тысяч сельских ополченцев-"пешцев", то есть около 32 тысяч человек15. Тотальная мобилизация, проведённая на территориях Северо-Восточной Руси и Великого Новгорода (без Рязани с уделами), позволила бы собрать более крупное войско численностью приблизительно в 56 165 человек16. Причём большинство этих воинов опять-таки были бы пешими ополченцами. Впрочем, о воинах-"пешцах", мобилизованных в сельской местности, уместней говорить применительно к реалиям Псковской республики или Двинской земли, где фактически отсутствовало сословие служилых землевладельцев.
Достоверных свидетельств о проведении таких мобилизаций среди сельских жителей на территории Владимиро-Московской Руси в XIV столетии по сию пору не обнаружено. Не совсем корректная методика определения мобилизационных возможностей Северо-Восточной Руси, разработанная Селезнёвым, не нашла признания коллег. Однако другого, более точного, способа никто из её критиков так и не предложил.
По сей день в историографии господствует представление об участии в Куликовской битве воинских контингентов из многих земель и княжеств Северо-Восточной и Северо-Западной Руси: Москвы, Коломны, Звенигорода, Можайска, Волока Ламского, Серпухова, Боровска, Дмитрова, Переяславля-Залесского, Владимира, Юрьева-Польского, Костромы, Углича, Галича Костромского, Бежецкого Верха, Вологды, Торжка. Кроме того, в сражении с Мамаем могли сражаться ратники из Белозерского, Ярославского, Ростовского, Стародубского, Моложского, Кашинского, Вяземско-Дорогобужского, Тарусско-Оболенского, Новосильского княжеств, а также князей-изгоев Андрея и Дмитрия Ольгердовичей, Романа Михайловича Брянского. А. А. Горский не исключает возможности того, что к полку Владимира Андреевича Серпуховского присоединились воины из Елецкого и Муромского княжеств, и даже Мещеры17. По убеждению С. Н. Азбелева, непосредственное участие в Донском побоище принимали и ратоборцы из Великого Новгорода18.
Ощущение единения населения всей Русской земли перед лицом врага лучше всего передаёт явно "баснословный" перечень павших из исполненной высокой поэзии Пространной редакции "Задонщины" (по списку В. М. Ундольского): "Государь князь великий Дмитрей Ивановичь, нету, государь, у нас 40 бояринов московских, 12 князей белозёрских, 30 новгородских посадников, 20 бояринов коломенских, 40 бояр серпуховских, 30 панов литовских, 20 бояр переславских, 25 бояр костромских, 35 бояр володимеровских, 8 бояр суздаских (так в тексте, надо: суздальских. - А. Б.), 40 бояр муромских, 70 бояр резаньских, 34 бояринов ростовских, 23 бояр дмитровских, 60 бояр можайских, 30 бояр звенигородских, 15 бояр углецких"19.
Совсем иное представление создаёт куликовский поминальник в составе Чина торжества православия. Ежегодно это чинопоследование читалось за специальным богослужением в соборах и церквах в первую неделю великого поста. Самую раннюю из известных ныне его редакций сохранил наиболее исправный список Вселенского синодика Русской митрополии из собрания Ф. Ф. Мазурина (РГАДА), датируемый ныне 1491-1493 годами20. Происходил он из скриптория Иосифо-Волоколамского монастыря21. В "мазуринском" Чине торжества православия удалось выявить чтения, восходящие к редакции Вселенского синодика 1411 года22 или даже к текстам "Синодика Царегородского", освидетельствованного константинопольским патриархом для Руси ещё в середине 1390-х годов23.
Первая его статья посвящена погибшим союзникам: "…Князю Феодору Белозерьскому и сыну его Ивану, оубиеным от безбожнаго Мамая. Вечная. Възглас [богослужебное прошение к Господу]". Вторая - убиенным воеводам и знатным боярам: "И в тои же брани избиеным: Симиону Михаиловичю, Никоуле Васильевичю, Тимофею Васильевичю, Андрею Ивановичю Серкизову, Михаилоу Ивановичю, и другому же Михаилу Ивановичю, Лву Ивановичю, Семену Мелику и всеи дружине их по благочестию скончавшихся за святыя церкви и за православную веру. Вечная"24.

Как показал анализ имён, записанных во второй статье, на Куликовом поле пали исключительно приближённые московского великого князя. Это обстоятельство наводит на мысль о том, что большую часть русской военной силы составляли дружины Владимирского и Московского (с уделами) великих княжеств, находившихся "под рукой" великого князя Дмитрия Ивановича. По поводу участия в битве воинских контингентов, формально не подчинявшихся непосредственно московским Даниловичам, с уверенностью должно говорить лишь о белозёрских ратниках, приведённых князем Фёдором Романовичем и его сыном Иваном.
Касательно дружин под водительством князей Андрея и Дмитрия Ольгердовичей, Романа Михайловича Брянского и других владетельных особ, упоминаемых в поздних летописных и нарративных памятниках, можно только строить догадки: либо они были чересчур малочисленны, либо их не было вовсе.
Уникальное известие IV Новгородской летописи о походе московского войска на Торжок в 1400/1401 году проливает свет на его тактическое деление: "И в то время наслал князь велики Василеи боляр своих Александра [Поля], Ивана Маринина и Ивана Толбоузина на Торжок воиною в 300 чловек"25. Как следует из процитированного отрывка, под началом каждого из "боляр" находилось от 50 до 150 бойцов. Иными словами, московский воевода рубежа XIV-XV столетий командовал в среднем 100 ратниками, отчего его можно уподобить сотенному голове эпохи позднего Средневековья. Нет никаких оснований полагать, что 8 сентября 1380 года на Куликовом поле применялось иное тактическое деление. В подчинении у восьми воевод, перечисленных в донском поминальнике Вселенского синодика, скорее всего, было около 800-1000 человек.
Каковой же была общая численность русских полков, пришедших на берега Непрядвы? На первый взгляд, ответить на поставленный вопрос невозможно: современный исследователь либо должен принять откровенно "баснословные" количественные показания средневековых источников, либо, руководствуясь собственными представлениями о здравом смысле, попытаться их как-то скорректировать. Объективные критерии установления реального числа участников битвы, казалось бы, отсутствуют. Попытки выяснения мобилизационного потенциала Северо-Восточной Руси или расчёт максимального количества ратников, способных разместиться на поле схватки (без учёта возможности снабжения их провиантом и фуражом) лишь создаёт иллюзию приближения к истине. Пожалуй, только обращение к проблеме тылового обеспечения войска может привести к положительному результату, показав близкое к действительности число ратоборцев с русской стороны.
Каждый конный воин выходил в поход, как минимум, "о дву конь", что в реальности оборачивалось наличием у него трёх лошадей и одного небоевого слуги - "человека с конём", восседавшего на одной из хозяйских лошадей. Кроме того, его непременно сопровождали "кошевые", а часто и боевые слуги26. Думается, таких всадников-профессионалов вряд ли могло оказаться больше 1000-1500 человек: приблизительно столько же в сходной ситуации удалось собрать московскому великому князю Василию II под Суздалем 6 июля 1445 года, когда пришлось отражать набег казанских татар под водительством сыновей хана Улу-Мухаммеда, Мамотека и Якуба. На следующий день, 7 июля, под стенами Спасо-Ефимьевского монастыря в жёстокой схватке встретились "яко не с тысячю" русских и 3500 восточных всадников27. Любопытно, что в русском летописании XV века тысяча воинов великокняжеской рати подразделялась на "полкы", а три с половиною тысячи "агарян" оценивались как "множество много" войска28.
Всего же войско Дмитрия Ивановича вместе со слугами состояло приблизительно из 3000-5000 человек (вместе с боевыми и "кошевыми" слугами) и 3000-4500 лошадей (не считая обозных). Для реалий XIV века это громадная военная сила, расположившаяся притом "в поле", где неизбежно остро встаёт вопрос поиска пропитания для людей и животных (как уже отмечалось выше, русские полки не имели большого обоза). Сколько, например, сена съедал один боевой конь в день?
К сожалению, мы не располагаем "раскладками" кормов для конницы XIV-XV столетий. Однако если вспомнить нормы травяного довольствия русской кавалерии начала XX века, то речь пойдёт о потреблении одним конём (кобылою) 15 фунтов (6,8 килограмма) сена в сутки29. Конечно, необходимо учитывать разницу между строевым породистым конём регулярной кавалерии Нового времени и неприхотливой ногайской лошадью монголов или близким к ней по своим пищевым потребностям скакуном русского дружинника. Но при необходимой коррекции нормы начала XX столетия в сторону уменьшения (примерно наполовину) её вполне можно использовать при расчёте потребления фуража лошадьми XIV века.
Таким образом, ежесуточно лишь боевому конскому поголовью необходимо было скармливать примерно от 10,2 до 15,3 тонны сена. При включении в рацион животных злаковых культур или соломы доля сена безусловно уменьшится, но вряд ли расход опустится ниже 3-4 килограммов в сутки. В этом случае понадобится не только около 2,4-3,6 тонны соломы, но и как минимум 4,5-6,7 тонны сенного фуража и столько же фуражных злаков, то есть всего от 11,4 до 17 тонн кормов ежесуточно (или половина от суточной "раскладки" фуража для регулярной кавалерии начала ХХ века).
Подобный расчёт кормов для ордынских лошадей позволяет более реалистично взглянуть на численность войска эмира Мамая, поскольку, за исключением апокрифической "генуэзской пехоты", оно было также конным. Между тем распространённые среди отечественных исследователей представления о размерах татарской рати оказываются вполне сопоставимыми со столь же "баснословными" количественными показателями, приводимыми ими самими или их коллегами в отношении русского войска. Если одни учёные насчитывали в ордынской рати 60 тысяч человек (Б. Ц. Урланис30), то другие определяли число "находников" уже в 100-150 тысяч воинов (Тихомиров, Черепнин, Буганов, Селезнёв31). Причём, последний даже назвал точную цифру ордынских ратников - выходцев из девяти улусов, подконтрольных Мамаю, - 90 000 человек32.
Свои расчёты историк произвёл, исходя из убеждения, что каждый улус непременно должен был выставить десятитысячный тумен. Однако он явно запамятовал об одном весьма важном обстоятельстве: в распоряжении только этих 90 тысяч воинов находилось от 270 до 360 тысяч лошадей, пригодных для использования в битве. Как известно, татарский всадник вступал в сражение, имея от 2 до 3 боевых коней в запасе33. Таким образом, ежедневно ордынцы должны были скармливать своим лошадям, как минимум, около 918 тонн сена. Иными словами, вместо приготовления к битве им пришлось бы заниматься добыванием колоссального количества фуража на территории лесостепи с относительно небольшой плотностью населения. Впрочем, даже приняв на веру численность татарского войска в 60 тысяч, а русской конницы в 30-50 тысяч всадников, что соответствовало общему конскому поголовью в 270-330 тысяч лошадей, необходимо вести разговор о подлинной экологической катастрофе в районе боевых действий. Ведь каждые сутки противостояния обе конфликтующие стороны уничтожали бы вместе приблизительно от 918 до 1122 тонн фуражной массы.
В отечественной историографии господствует мнение о том, что ордынский тумен всегда имел в составе 10 тысяч человек. Но так ли это было в действительности? Разве объективные обстоятельства, как-то: эпидемии, неурожаи или потери в военных столкновениях, не влияли на мобилизационный потенциал того или иного улуса в конкретно взятый период времени? Между тем демографическая ситуация в XIV столетии оказалась одинаково сложной и для татар, и для русских, соперникам Дмитрия довелось пережить немало и социальных потрясений. Не прекращавшаяся с 1362 года "великая замятня", что была спровоцирована борьбой за власть соперничавших друг с другом кланов Чингизидов и отдельных честолюбивых эмиров, заметно подорвала военную мощь Монгольской империи.
В условиях политического хаоса, порождённого гражданской войной, начались дезинтеграционные процессы на территориях Орды. В результате Булак-Тимуру удалось захватить власть в Волжской Булгарии, Хаджи-Черкесу - в Астрахани, а представителю неправящей ногайской аристократической фамилии Алаш, темнику Мамаю, стать полновластным диктатором в степях Причерноморья и на обширной части Поволжья. Впрочем, бескомпромиссный и оттого ещё более жестокий характер политического противостояния вынуждал эмира Мамая фактически вести войну на два фронта. Собирая тумены из подначальных улусов и отряды союзников для похода в московские пределы, ему приходилось неослабно следить за дипломатическими и военными манёврами своего непримиримого врага Тохтамыша. Последний не раз находил убежище и поддержку у самаркандского эмира Тимура. Именно благодаря помощи могущественного Хромца Тохтамыш смог сначала изгнать из Астрахани Хаджи-Черкеса в 1376-1377 годах, а потом, в 1378-м, взять под свой контроль Сарай34.
О мобилизационных возможностях одного из "мамаевых" улусов - Мордовского - можно судить достаточно точно. Зимой 1377 года, в ответ на участие мордовских отрядов в разгроме объединённой нижегородско-московской рати на реке Пьяне, суздальско-нижегородский великий князь Дмитрий Константинович снарядил карательную экспедицию против "мордвы". Возглавил истребительный поход его младший брат, городецкий князь Борис. Под его водительством нижегородско-суздальско-городецкие ратники "взяша землю Мордовьскую и повоеваша всю и сёла их и погосты их и зимници пограбиша, а самих посекоша, а жены и дети их полониша, и всю землю их пусту сотвориша". Каратели "множество живых полонивше и приведоша их в <Нижний> Новъгород и казниша их казнию смертною, травиша их псы на леду на Волзе"35.
Малоправдоподобно, чтобы после столь методического уничтожения мужского населения и разгрома всей территории улуса Мамай смог получить оттуда полноценный десятитысячный тумен. Впрочем, даже при более благоприятной демографической ситуации мобилизационный потенциал поволжских финно-угорских народов не достигал 10 000 воинов. Например, спустя более чем два века, в июне 1615-го, при наборе "с земли чюваши и черемисы… с трёх дворов по человеку" удалось мобилизовать в общей сложности 6063 человек. В результате аналогичной акции осенью 1633 года "из Казани из казанских пригородов с чюваши и с черемисы, и с мордвы" на службу были призваны только 3153 человека36.
Так сколько же Мамай привёл войска на Дон? В полном согласии с традиционным представлением о численном превосходстве ордынских войск над русскими, Буганов определил общее количество ратоборцев на Куликовом поле в 200-300 тысяч человек (в соотношении 1 к 1,5)37. Однако, по-видимому, более правы были те исследователи, которые полагали численность татар и их союзников примерно равной, или даже несколько меньшей, по сравнению с полками Дмитрия Ивановича (А. О. Амелькин)38. Учитывая практические трудности с обеспечением фуражом нескольких десятков и, тем паче, сотен тысяч человек, остаётся лишь факт участия в сражении около 1000-1500 всадников с каждой стороны. В таком случае, с обеих сторон в Куликовской битве участвовали приблизительно 6-10 тысяч человек (включая различные категории слуг и обозных), имевших в своём распоряжении 6000-9000 только боевых коней. Впрочем, и в этом случае противники должны были испытывать определённые трудности с фуражом: скакуны съедали около 20,4-30,6 тонн сена в сутки.
Погребение павших воинов
Для XIV столетия столкновение 6-10 тысяч человек на одном поле сражения являло собой по-настоящему крупное сражение, вполне заслуживавшее эпитета кровавого "побоища".
По свидетельству "Сказания" (вариант Ундольского), русские понесли в ходе боя колоссальные безвозвратные потери - "250 000 и 3 тысящи" человек убитыми39. Еще большие потери были у проигравших ордынцев. Военный историк Е. А. Разин считал, что речь должна вестись о примерно 20 тысячах погибших на поле битвы и около 25-30 тысяч умерших от ран, полученных в схватке. Донская гекатомба предполагала огромные массовые захоронения на месте битвы или в ближайших окрестностях, однако они по сию пору не обнаружены. Но стоит ли их искать?
Полки Дмитрия Ивановича сражались с ордынцами Мамая в условиях встречного боя с 6-го по 9-й суточный круг богослужения, то есть от полудня до трёх часов дня. Причём, в отличие от татар и их союзников, вступивших в схватку прямо с марша, русские ратоборцы встретили противника отдохнувшими и хорошо подготовленными к битве40. Между тем опыт самых кровопролитных сражений эпохи позднего Средневековья позволяет достаточно точно определить цифру невосполнимых потерь победителя, колебавшуюся от 5 до 33,3 процента от общего числа воинов41.
В первом случае при участии в побоище тысячи - двух тысяч русских бойцов ("кованых" ратников, их боевых слуг и выезжавших по необходимости "людей с конём") количество погибших непосредственно на поле могло составить примерно от 50 до 100 человек. Учитывая же ожесточённый характер схватки, о чём ясно свидетельствуют не только летописные и нарративные памятники, но и куликовский поминальник Успенского Чина торжества православия, потери убитыми, скорее всего, составили приблизительно треть от общего числа участников - от 333 до 666 воинов. Любопытно, что победители в кровавой Суздальской битве, казанцы царевича Мамотека, потеряли лишь седьмую часть ратоборцев - 500 человек42.
Хорошо известная практика погребения защитников Отечества в XVII столетии оказывается вполне применимой и к реалиям сентября 1380 года. В согласии с ней тела "набольших" воевод и знатных воинов их слуги или сородичи должны были развезти для "честных" похорон по родным городам и весям. Именно так, например, поступали их далёкие потомки в ходе летних - осенних боёв Русско-польской войны 1654-1667 годов43. Лучшим подтверждением этому служит сохранившаяся до наших дней могила куликовского героя Александра Пересвета в московском Рождественском монастыре, что в Старом Симонове.

Судьба останков менее родовитых ратоборцев и слуг сложилась иначе: их трупы предавались земле прямо на месте схватки, причём их оставшиеся в живых товарищи погребали павших по "полкам" (отрядам, состоящим из жителей одной местности или города) отдельно от других44. Таким образом, после ухода воинов великого князя Дмитрия на Куликовом поле осталось несколько десятков коллективных захоронений-"скудельниц" с относительно небольшим количеством похороненных в каждой из них тел.
В историографии принято представлять "скудельницу" отечественным аналогом западноевропейской братской могилы45. Действительно, по внешнему виду они мало чем отличаются46. Однако между ними существует одно весьма принципиальное различие: братская могила в Западной Европе, как правило, находится на освящённой территории кладбища, а "скудельница" - за оградой православного погоста, "в поле", "на пустом месте". Более того, судя по свидетельству голландского дипломата Николаса Витсена, оставленного в его дневнике путешествия в Московию в 1664-1665 годах, такая яма засыпалась лишь небольшим слоем земли, отчего погребённые в ней останки становились лёгкой добычей диких птиц и зверей. В своём дневнике Витсен, в частности, делился впечатлениями от посещения заброшенного лагеря русских войск под Ригой (запись от 22 октября 1664 года): "…Когда я в тот день для развлечения пошёл гулять, то увидел на полях кости сотен убитых, непохороненных русских, ямы, полные трупами, многие едва прикрытые землёй. Это осталось от недавней осады города, во время которой сам царь (Алексей Михайлович. - А. Б.) с войском около 200 тысяч человек находился под Ригой"47.
Очевидно, что "ямы" под Ригой представляют собой "скудельницы", где упокоились останки воинов, погибших от рук неприятеля или составивших санитарные потери. Их неприглядное состояние вряд ли стоит связывать с местью горожан. Они, конечно, не заботились о вражеских погребениях, но и не разоряли их. Витсен, по крайней мере, об этом ничего не пишет. В таком случае средневековая русская "скудельница" представляет собой не братскую могилу, но место для захоронения "неправильных" мертвецов, лишённых права упокоения на регулярном кладбище48.
На "распределение" тел между регулярным христианским погостом и скудельницей влияли особенности восточнославянского менталитета, органически вмещавшего в себе, казалось бы, несоединимое - языческую и православную идеологии. В. М. Живов справедливо писал об органическом смешении в сознании средневекового русского человека православного благочестия и "нечестивых" языческих обрядов, причём последние были явно десемантизированы и потому воспринимались отнюдь не противоречащими христианству. Отчего любой "нормальный… член" средневекового общества "двоеверцем себя не сознавал"49.
Стоит лишь заметить, что гармоническое сосуществование христианского и языческого в сознании отдельного индивидуума достигалось за счёт абсолютной автономии одного от другого. Только таким способом, например, языческий культ "заложных" покойников мог сохранять свою актуальность в условиях господства православного вероисповедания. Иначе говоря, в момент совершения обереговых обрядов на могиле "нечистых" мертвецов русский православный человек явно не задумывался о том, насколько это противоречит учению церкви. При этом не стоит забывать, что лишённое богословского образования средневековое отечественное духовенство (особенно его "низовое" звено) в полной мере разделяло суеверные настроения своей паствы. Отчего участие в том или ином обряде, например, приходского священника ещё не свидетельствовало о христианской "чистоте" совершаемого им обряда.
Общеизвестно, что в христианстве понятие греха неразрывно связано с личной ответственностью человека за всё содеянное им в продолжение жизненного пути, "яже в слове и в деле, в ведении и в неведении, яже в уме и в помышлении", отчего он может быть наказан или поощрён лишь за собственные действия или мысли. Именно поэтому церковь отказывает самоубийцам, добровольно отказавшимся от дарованной Богом жизни, не только в поминовении за общественным богослужением в храме, но и в погребении в освящённой земле кладбища. И, напротив, не существует ни малейших богословских и канонических препятствий ни для церковных молитвенных ходатайств перед Всевышним за погибших от несчастных случаев, стихийных бедствий, эпидемий или актов насилия, ни, тем паче, для их надлежащего захоронения на православном погосте. Всё сказанное выше всецело относится и к павшим защитникам Отечества.
Между тем, по широко распространённому среди восточных славян убеждению, каждому человеку при рождении отпускается свой срок жизни либо до глубокой старости, либо до естественной смерти от терминальной болезни. В противном случае усопшие не попадают сразу на "тот свет", а доживают за гробом положенный им срок земной жизни, превращаясь в весьма опасных "заложных" покойников. Обычно они обитают в местах своей гибели или близ собственных могил (если кто-то из таких нечистых мертвецов был всё же погребён), сохраняя присущие им при жизни характер, привычки и поведение50. Дело в том, что "в языческом же представлении о грехе личная воля вообще не играет роли. Здесь важно только одно: укладываются ли поступки человека (в том числе и его смерть) в рамки нормы или нет, даже если сам человек в этом не виноват. С точки зрения язычника, смерть в результате самоубийства и смерть в результате несчастного случая - это одинаково "неправильная" смерть, потому что и в том, и в другом случаях человек не прожил положенный ему срок жизни, а значит, не может перейти в иной мир и становится "заложным" покойником, опасным для живых"51.
Притом язычнику было абсолютно неважно, исповедовался ли и причащался ли умерший перед своей кончиной. Именно поэтому в сознании восточнославянского населения "заложными" мертвецами представлялись самые разные покойники. Ими одинаково считались и ногайский воин, застреленный из пищали при отражении набега кочевников на курские земли, и вологодский разбойник Аника, осмелившийся поднять руку на странника-богомольца и надругаться над священными реликвиями, и погребённый в одном из курганов на границе Великолуцкого и Торопецкого уездов "храбрый витязь, богатырь славный, павший в честном бою за веру христианскую"52.
Остаётся лишь выяснить, где конкретно могли быть устроены "скудельницы" на Куликовом поле? Отыскать с десяток погребений в небольших ямах, выкопанных в земле на поле битвы, напоминает поиск иголки в стоге сена.
Однако такие могилы рано или поздно будут обнаружены. Скорее всего, русские ратники, утомлённые тяжкой и кровавой схваткой, использовали для захоронения товарищей особенности рельефа местности, испещрённой многочисленными оврагами. Последние, по-видимому, и стали местом упокоения нескольких сотен убитых воинов, служивших великому князю Дмитрию Ивановичу. С учётом того, что "скудельницы" засыпались весьма малым количеством земли, можно с уверенностью утверждать: кости ратоборцев вымывались дождями, а потом расхищались дикими зверями и птицами. В известном смысле, судьбы останков павших русских и ордынских бойцов оказалась в чём-то похожи. Следуя ещё скандинавским воинским традициям, заимствованным у иноземных дружинников первых князей Рюрикова дома, трупы врагов (в нашем случае, воинов Мамая) остались без погребения в поле на растерзание хищникам и птицам.
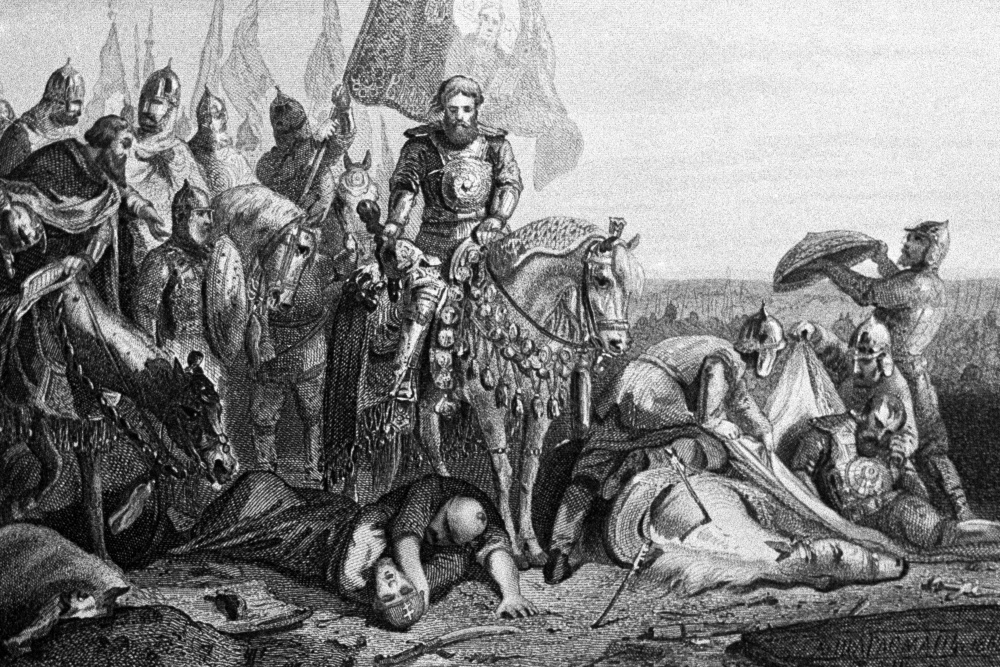
Любопытно, что подобная практика просуществовала, по меньшей мере, до второй половины XVI столетия. В 1572 году, после сражения при Молодях, "все погибшие, имевшие на шее крест, были погребены при монастыре, что стоит под Серпуховом, остальные же достались на съедение птицам"53.
В овраги на Куликовом поле, должно быть, свалили и трупы убитых лошадей, кости которых также сначала вымывались дождями, а затем и растаскивались животными и птицами. В таком случае даже самые тщательные поиски биологических "пятен", оставшихся после людей или животных, на месте Донского побоища вряд ли когда-либо увенчаются успехом. Поэтому будет абсолютно правильно всю окрестную территорию, прилегавшую к месту битвы, рассматривать как огромный коллективный воинский некрополь.
* * *
Более полутора столетий исследование Донского побоища 8 сентября 1380 года базировалось на кропотливом анализе фактов, сохранившихся в летописных и нарративных памятниках так называемого Куликовского цикла. Ныне, к сожалению, приходится признать всю бесперспективность дальнейшего движения в этом направлении. Книжники-летописцы, Софроний Рязанец или безвестный автор "Сказания" создали впечатляющий и оттого запоминающийся художественный образ "Мамаева побоища", но отнюдь не документально точную хронику события.
Как выясняется, на основании показаний памятников Куликовского цикла, например, невозможно установить ни действительную численность войск противоборствующих сторон, ни цифру безвозвратных потерь победителей - ратников Владимирско-Московской Руси. По наблюдению покойного А. О. Амелькина, даже ход самого сражения, равно как и предшествовавшие ему обстоятельства, затруднительно восстановить по текстам одной пространной Летописной повести, "Задонщины" или "Сказания". Парадоксально, но на сегодня единственным достоверным источником, позволяющим выяснить имена павших на поле битвы военачальников и знатных воинов, остаются "донские" статьи поминальника Чина торжества православия Большого Успенского собора по списку конца XV века.
- 1. Опубликована в: Нечволодов А. Д. Сказания о Русской земле. СПб. 1913. Ч. 2. С. 450. Рис. 398.
- 2. См.: Памятники Куликовского цикла. СПб. 1998. С. 128, 132, 159, 186, 249 (подсчёт наш. - А. Б.).
- 3. См.: Кучкин В. А. Победа на Куликовом поле//Вопросы истории. 1980. № 8. С. 11.
- 4. Амелькин А. О. Куликовская битва (опыт реконструкции событий)//Куликово поле: вопросы историко-культурного наследия. Тула. 2000. С. 287.
- 5. См.: Кучкин В. А. Указ. соч. С. 13.
- 6. См.: Тихомиров М. Н. Куликовская битва 1380 года//Вопросы истории. 1955. № 8. С. 16.
- 7. См.: Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства в XIV-XV веках. М. 1960. С. 607.
- 8. См., например: Веселовский С. Б. Труды по источниковедению и истории России периода феодализма. М. 1978. С. 268-269.
- 9. См.: Vernadsky G. The Mongols and Russia//Vernadsky G., Karpovich M. A History of Russia. Vol. 3. New Haven. 1966. P. 260.
- 10. См.: Кирпичников А. Н. Куликовская битва. Л. 1980. С. 66.
- 11. См.: Рабинович М. Г. Военное дело на Руси эпохи Куликовской битвы//Вопросы истории. 1980. № 7. С. 106.
- 12. См.: Бескровный Л. Г. Куликовская битва//Куликовская битва. М. 1980. С. 226.
- 13. См.: Буганов В. И. Куликовская битва. М. 1980. С. 55.
- 14. См.: Кучкин В. А. Победа на Куликовом поле… С. 11.
- 15. См.: Селезнёв Ю. В. Мобилизационный потенциал Руси в конце XIV - начале XV вв. (К постановке проблемы)//Н. И. Троицкий и современные исследования историко-культурного наследия Центральной России. Т. 2. Тула. 2002. С. 49; Он же. "А переменит Бог Орду…" (Русско-ордынские отношения в конце XIV - первой трети XV вв.). Воронеж. 2006. С. 100.
- 16. См.: Там же. С. 101 (подсчёт наш. - А. Б.).
- 17. См.: Горский А. А. К вопросу о составе русского войска на Куликовом поле//Древняя Русь. 2001. № 4 . Декабрь. С. 29-37.
- 18. См.: Азбелев С. Н. Новгородский контингент на Куликовом поле//Он же. Устная история в памятниках Новгорода и Новгородской земли. СПб. 2007. С. 128-155.
- 19. Памятники Куликовского цикла… С. 119.
- 20. Описание рукописи см.: Каталог славяно-русских рукописных книг XV века, хранящихся в Российском государственном архиве древних актов. М., 2000. № 99. С. 297-290.
- 21. См.: Клосс Б. М. Никоновский свод и русские летописи XVI-XVII веков. М. 1980. С. 26-27.
- 22. Подробнее о редакции 1411 г. Вселенского синодика и помещённом в нём Куликовском мартирологе см.: Булычёв А. А. Поминание павших на Куликовом поле во Вселенском Синодике Русской митрополии конца XV века//Верхнее Подонье: Природа. Археология. История. Т. 2. Тула. 2007. С. 39-47.
- 23. Ср.: Памятники древнерусского канонического права. Ч. 1: Памятники XI-XV вв.//РИБ. 2-е изд. Т. 6. СПб. 1909. № 30. Стб. 239-240.
- 24. РГАДА. Ф. 196. Оп. 1. Д. 289. Л. 155.
- 25. Новгородская Четвёртая летопись//ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. М. 2000. С. 390.
- 26. См.: Антонов А. В. "Боярская книга" 1556/57 года//Русский дипломатарий. Вып. 10. М. 2000. С. 82-118.
- 27. См.: Зимин А. А. Витязь на распутье. Феодальная война в России XV в. М. 1991. С. 104-105.
- 28. См.: Московский летописный свод конца XV века//ПСРЛ. М. 2004. С. 262.
- 29. См.: Чернышевский Д. В. "Приидоша бесчисленны, яко прузи"//Вопросы истории. 1989. № 2. С. 129-130.
- 30. См.: Урланис Б. Ц. Войны и народонаселение Европы. М. 1960. С. 38-39.
- 31. См.: Тихомиров М. Н. Указ. соч. С. 16; Черепнин Л. В. Указ. соч. С. 607; Буганов В. И. Указ. соч. С. 50, 55-56; Селезнёв Ю. В. Стратегия и тактика Мамая: к вопросу о численности ордынских войск и маршрута следования к Куликову полю//Куликово поле: вопросы историко-культурного наследия… С. 298.
- 32. Ранее Ю. В. Селезнёва, похожее число подконтрольных Мамаю ордынцев (80-90 тысяч человек) называл Р. Г. Скрынников//Скрынников Р. Г. Куликовская битва. Проблемы изучения//Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины. М. 1983. С. 53.
- 33. См.: Чернышевский Д. В. Указ. соч. С. 129.
- 34. См., например: Spuler B. Die Goldene Horde: Die Mongolen in Russland, 1223-1502. Wiesbaden. 1965. S. 117-119; Martin J. The emergence of Moscow (1359-1462)//The Cambridge History of Russia. Vol. 1. Cambridge, 2006. P. 162.
- 35. Рогожский летописец. Стлб. 120.
- 36. См.: Книги разрядные, по официальным оных спискам. Т. 1. СПб. 1853. Стлб. 49-50 (подсчёт наш. - А. Б.); Т. 2. СПб. 1855. Стлб. 553.
- 37. См.: Буганов В. И. Указ. соч. С. 55.
- 38. Ср.: Амелькин А. О. Указ. соч. С. 287.
- 39. См.: Памятники Куликовского цикла… С. 186.
- 40. См.: Амелькин А. О. Указ. соч. С. 296.
- 41. Ср.: Кирпичников А. Н. Указ. соч. С. 65.
- 42. См.: Зимин А. А. Витязь на распутье… С. 105.
- 43. См., например: РГАДА. Ф. 210. Столбцы Белгородского стола. Д. 405. Л. 105 (2 августа 1664 г.), 106 (11 августа 1664 г.) и др. Сообщено О. А. Курбатовым.
- 44. См.: Там же. Л. 120-123.
- 45. См.: Шокарев С. Ю. Русский средневековый некрополь (на материалах Москвы XIV-XVII вв.)//Культура памяти. М. 2003. С. 146.
- 46. См.: Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М. 1992. С. 82-83; Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества. Т. 1. Харьков. 1916. С. 200.
- 47. Витсен Н. Путешествие в Московию. 1664-1665. СПб. 1996. С. 33.
- 48. См.: Гальковский Н. М. Указ. соч. Т. 1. С. 197-201; Шокарев С. Ю. Указ. соч. С. 146-147.
- 49. Живов В. М. Двоеверие и особый характер русской культурной истории//Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М. 2002. С. 311.
- 50. См.: Зеленин Д. К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: Умершие неестественною смертью и русалки. М. 1995. С. 39-43; Он же. Восточнославянская этнография. М. 1991. С. 394; Седакова О. А. Тема "доли" в погребальном обряде (восточнославянский и южнославянский материал)//Исследования в области балто-славянской духовной культуры: Погребальный обряд. М. 1990. С. 54-63; Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре: Структурно-семиотический анализ восточнославянских обрядов. СПб. 1993. С. 101-103 и др.
- 51. Левкиевская Е. Е. Мифы русского народа. М. 2003. С. 187.
- 52. См.: Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии… С. 63-70.
- 53. Штаден Г. Записки о Московии. Т. 1. М. 2008. С. 200-201, 542.
Читайте нас в Telegram
Новости о прошлом и репортажи о настоящем