По данным главного военно-санитарного инспектора, накануне Первой мировой войны армия была обеспечена медико-санитарными средствами всего на четыре месяца. Имелся также четырехмесячный запас медицинского имущества, положенного по каталогу, для 76 корпусов численностью в 50 тысяч каждый, 122 лазаретов, 850 полевых и 79 крепостных госпиталей, 74 военно-санитарных транспортов, 100 военно-санитарных поездов и на 76 020 коек для крепостей1. Вдовствующая императрица Мария Федоровна оптимистично отмечала, что "гроза военных событий застала Российское общество Красного Креста вполне подготовленным к многотрудному делу помощи больным и раненым воинам". Все расчеты по подготовке к грядущему мировому конфликту проводились исходя из примеров русско-японской кампании.

из архива журнала "Родина"
Перевязочный пункт 293-го пехотного Ижорского полка.
"Положительным опытом" считалась система эвакуации раненых с театра военных действий в глубь страны в качестве основы организации военно-санитарной службы. После 1905 года получила развитие идея эвакуации "во что бы то ни стало", мотивированная тем, что "при теперешнем способе ведения войны и теперешнем способе передвижения, на первом плане стоит эвакуационная система, разве с небольшим уклоном в пользу тяжелораненых и больных, которых даже в случае отступления следует оставить под защитой Женевской конвенции". Ошибочность такого выбора в полной мере проявилась в ходе войны 1914-1918 годов.
Во "Временном положении об эвакуации раненых и больных воинов" отмечалось, что "действующая армия нуждается в постоянном удалении от нее раненых и больных, дабы их присутствие не стесняло ее подвижности и не оказывало неблагоприятного влияния на находящихся в ее рядах чинов. Удовлетворение как этого требования, так и необходимости избежать скопления раненых и больных в тылу армии и тем предупредить возможность возникновения здесь эпидемий и заражения путей сообщения, составляет задачу эвакуации раненых и больных"2.
Предусматривалось четыре типа эвакопунктов:
1. Головной эвакуационный пункт был предназначен для приема и временного размещения раненых и больных, доставляемых из корпусных районов, до их отправки на тыловой эвакуационный пункт.
2. Тыловой эвакуационный пункт занимался сортировкой пострадавших по степени тяжести для дальнейшей отправки на распределительные пункты и их временного размещения.
3. Распределительный эвакуационный пункт располагался во внутреннем районе, в узле железной дороги, как можно ближе к границе тылового района. Отсюда раненые подлежали дальнейшей эвакуации в окружные эвакуационные пункты.
4. Окружной эвакуационный пункт находился в каждом военном округе, где раненые должны были содержаться до полного выздоровления.
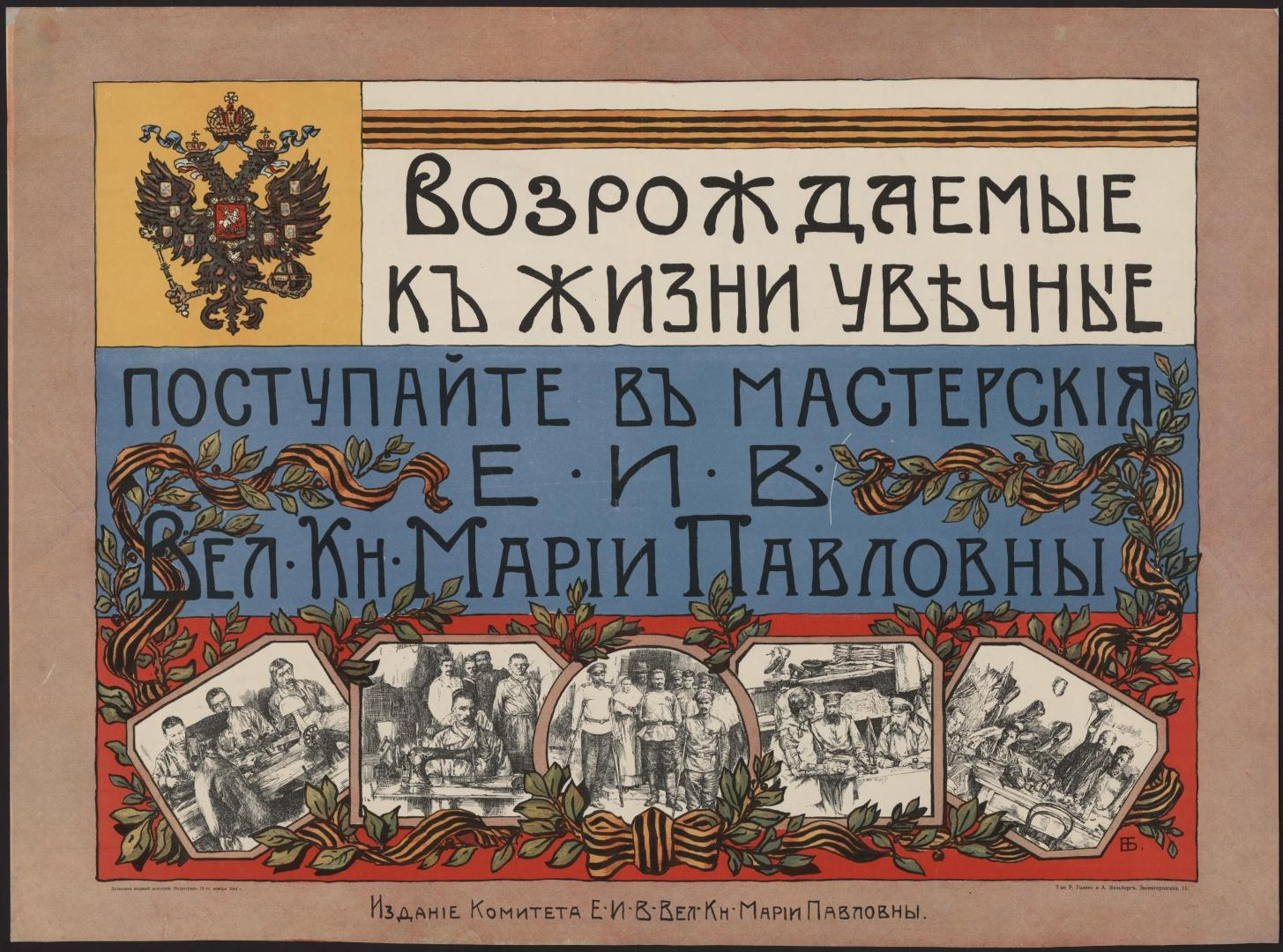
Но для обеспечения выполнения поставленной задачи требовалась стройная, планомерная система эвакуации, которая предусматривала бы "пути сообщения шоссейные и железнодорожные, когда в тылу есть города с хорошо оборудованными госпиталями, а на фронте достаточное количество помещений для этапных и подвижных лазаретов"3.
Недальновидность расчетов военного ведомства по организации медицинской помощи не заставила себя долго ждать, ведь не были учтены ни очевидная масштабность войны, ни появление новых эффективных средств поражения (пулеметы, огнеметы, танки, отравляющие вещества, разрывные пули).
"Необычная прежде всего длительность боя, ведущегося непрерывно, в то время, как в прежние войны, в том числе и в русско-японскую, бои велись лишь периодами, а остальное время было посвящено маневрированию, укреплению позиций и т. д. Необычайная сила огня, когда, например, после удачного шрапнельного залпа из 250 человек остается не получившими ранения всего 7 человек", - отмечалось в журнале заседания Главного Управления РОКК от 14 сентября 1914 года.
С первым потоком раненых, которых старались срочно переместить в тыл, эвакуационная система начала давать сбои. При большом наплыве раненых они скапливались на головных эвакуационных пунктах, случалось, что сутками стояли в ожидании отправления. "Часто, почти от позиций, шли до тыловых пунктов транзитом, то от головных пунктов в глубь страны". 18 сентября 1914 года начальник Генерального штаба телеграфировал начальникам снабжения армий Северо-Западного и Юго-Западного фронта: "Поезда с ранеными следуют не по расписанию, без предварительного уведомления эвакуационных и продовольственных пунктов, без медикаментов, перевязочных средств".
Хирург действующей армии профессор В. А. Оппель считал, что "при достаточном количестве санитарных поездов, увозящих раненых на тыловые эвакуационные пункты, пробки раненых могут быть прекращены, но поездов не хватает" (Военно-санитарных поездов у военного ведомства было всего 259). 1 сентября 1914 года начальник Виленского жандармского полицейского управления железных дорог сообщал начальнику Барановичского отделения своего ведомства:
"На станции Пинск вторые сутки скопление более 3000 раненых. Есть эшелоны по два дня некормленые. У эвакуационной комиссии перевозка, кормление и дальнейшая эвакуация не организованы. Среди раненых растет недовольство".
"Развозка раненых была неправильна, поезда шли, например, не по заранее намеченным направлениям, их не встречали питательные пункты и на местах остановок не приспособлено было кормление.
Первое время приходили в ужас от этой картины. В Москву приходили поезда с некормлеными несколько суток людьми, с ранами не перевязанными, а если перевязывали однажды, в течение нескольких дней не перевязывали вновь. Иногда даже с таким количеством мух и червей, что трудно даже медицинскому персоналу выносить такие ужасы, которые обнаруживались при осмотре раненых", - отмечал в докладе на заседании бюджетной комиссии от 10 декабря 1915 года член Государственной думы А. И. Шингарев. "Значительное большинство прибывало в виде, часто заставлявшем удивляться крепости и живучести человеческого организма", - делился на 14-м съезде российских хирургов наблюдениями хирург действующей армии Н. Н. Теребинский.
Санитарных поездов не хватало, поэтому раненых зачастую перевозили "в возвращавшихся порожняком составах, только что освободившихся от воинских эшелонов, не очищенных иногда от конского навоза, без соломы, фонарей, сходней и других необходимых принадлежностей". Результатом такой эвакуации "транзитом" было то, что в Петрограде и в Москве в сентябре 1914 года сосредоточилось около 80 процентов раненых. Если нормальная грузоподъемность поезда составляла от 450 до 500 раненых, то каждый поезд в начале войны привозил 360-400 человек, не подлежавших необходимой эвакуации.
Люди, получившие не очень серьезное ранение, самостоятельно отправлялись к перевязочным отрядам, а затем - в эвакуационный пункт. Тяжелораненые же были вынуждены ждать наступления ночи, когда закончится бой, в надежде, что их найдут и подберут санитары. Понятно, что оценивать каждое ранение на головном эвакуационном пункте не представлялось возможным. К тому же отдельные воины причиняли себе повреждения умышленно. Многие считали себя счастливцами, если получали рану. "Разбитые нравственно, всеми силами рвутся в глубь страны, заползают в пустые вагоны, не принадлежащие санитарным поездам, лишь бы быть перевезенными".
Многие лечебные учреждения оказались не готовыми к приему раненых. В телеграмме главного начальника снабжения армии Юго-Западного фронта в Ставку от 6 сентября 1914 года говорится, что "согласно мобилизационному расписанию, в тыловой район Юго-Западного фронта должны были прибыть 100 госпиталей, из них подвижных - 26, запасных - 74. В действительности в указанный район всего прибыло 54 госпиталя, не дослано 46 госпиталей.
Нужда в госпиталях огромная, недостаток их отражается крайне вредно на деле. Телеграфировал главному военно-санитарному инспектору просьбу безотлагательно направить недостающие госпитали". Нет оснований сомневаться, что подобный недостаток лечебных учреждений имел место по всем трем фронтам в начале войны.
Из рапорта начальника Эвакуационного управления Генерального управления Главного штаба (ГУГШ) начальнику ГУГШ от 23 августа 1914 года следует, что "учреждения внутренней эвакуационной организации совершенно не готовы к приему и размещению больных и раненых". По подсчетам военного ведомства, общее число коек, подготовленных для приема раненых, должно было составить 280 тысяч.
Положение нормализовалось, после того как организацией медицинской помощи сначала в тылу, а затем и на театре военных действий занялись Всероссийский земский (ВЗС) и Всероссийский городской союзы (ВСГ). Они взяли на себя заботу по организации больничных мест - 155 400 коек. В отчете Главного комитета Земского союза говорилось, что "военное ведомство направило свои силы и средства на удовлетворение потребностей действующей армии в отношении ее боевого снаряжения и организации санитарной части на театре военных действий, а все дело помощи больным и раненым во внутренних районах было поручено общественным организациям".
Нехватка транспорта и недостаточная протяженность железных дорог не давали возможности равномерно заполнить больными и ранеными весь созданный объем больничных мест в лечебных учреждениях. Раненые накапливались в распределительных пунктах, куда их свозили с передовых позиций, в результате чего близлежащие эвакуационные пункты были переполнены, а лечебные учреждения в отдаленных районах пустовали. Средний процент заполнения коек внутренней эвакуации в первый период войны составлял около 50, а затем колебался между 70-77. Занятость лечебных учреждений в отдаленных районах до конца войны так и не достигла 100 процентов.

Информация о количестве коек была необъективной, и тем самым создавались трудности в размещении больных и раненых воинских чинов, нарушалась работа по организации медицинской помощи. Типичной была ситуация, когда в начале сентября 1914 года главноуполномоченному Земского союза "внезапно заявлено было о том, что через 12 часов в Москву, для размещения, прибывает 21 поезд с ранеными в числе около 15 000 человек". Отправлявшие эти поезда не заботились ни о количестве больничных мест в городе, ни о запасе продуктов, необходимых для питания раненых.
Еще одним недостатком существовавшей системы было обилие ведомств и учреждений, имевших различную подчиненность, но зани-мавшихся одним делом. Это было закономерно, поскольку эвакуацией раненых и больных ведало Главное управление Генерального штаба, а лечением пострадавших в полевых и стационарных лечебных заведениях и эвакуацией на грунтовых участках - санитарные начальники фронтов и армий, РОКК, ВЗС и ВСГ. Функцией Главного санитарного управления было снабжение медицинским имуществом, учет и распределение медицинских кадров, а снабжение санитарно-хозяйственным имуществом находилось в руках Главного интендантского управления.
В сентябре 1914 года была предпринята попытка объединить усилия ведомств, но верховным начальником санитарной и эвакуационной части стал человек, далекий от медицины и не обладавший опытом профессионального администратора, но состоявший в родстве с Николаем II - принц А. П. Ольденбургский. К качественным изменениям это не привело. Спустя два года после вступления России в войну вопрос о единой системе обеспечения медицинской помощью все еще оставался открытым.

В декабре 1916 года на XIV съезде российских хирургов профессор, лейб-хирург, член Главного управления РОКК Н. А. Вельяминов говорил об "отсутствии на фронте компетентного центрального органа, руководящего всеми делами врачебно-санитарной помощи в армии" и о необходимости "объединения деятельности различных ведомств и организаций, причастных к санитарному делу". На этом же съезде хирург П. Г. Корнеев отмечал: "Между учреждениями военно-санитарных и общественных организаций нет тесного контакта. Да он и невозможен. Постановка дела в военно-санитарном ведомстве достаточно выяснена. В учреждениях частной и общественной помощи также нет полного единства, каждая организация имеет свой центр, свой уклад, и связь устанавливается лишь чисто внешняя".
И только в приказе Временного правительства по военному ведомству № 417 от 29 июня 1917-го говорилось о "немедленном сформировании Временного главного Военно-санитарного совета и Центрального санитарного совета фронтов для объединения военно-санитарного дела как на фронте, так и в тылу". В июне-августе 1917-го был создан особый комитет для разработки проекта по объединению военных и общественных организаций на Европейском театре войны. Об эффективности этих мер в свете бурных событий 1917 года судить сложно, но вряд ли они кардинально изменили ситуацию.
Общие санитарные потери русской армии в Первую мировую войну составили 12-13 миллионов, а средние ежегодные потери на один миллион - около 800 тысяч человек.
Оппель, пользуясь данными, собранными им на Юго-Западном фронте, пришел к выводу, что из 100 раненых в часть возвращалось 44 (сюда не вошли лазареты дивизий, откуда также возвращались обратно в строй легкораненые)4. Таким образом, на фронт не попадало больше половины бойцов, из которых 10 процентов умирали, а прочие оставались инвалидами...
- 1. Санитарная служба русской армии в войне 1914–1917 гг. Сб. документов. Куйбышев. 1942.
- 2. РГА ВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 431.
- 3. 14-й съезд российских хирургов. М.: 16–19 декабря 1916 года. М. 1927. С. 49.
- 4. Оппель А. В. Очерки хирургии войны. Л. 1940. С. 172
Подпишитесь на нас в Dzen
Новости о прошлом и репортажи о настоящем