Отсутствие поначалу у большевиков внятных представлений о структуре советского госаппарата, мере допустимого насилия, а также ненадёжность "военных специалистов", а в какой-то мере и аппарата военного управления, включая контрразведку, подвергавшуюся к тому же многочисленным реорганизациям, а также невозможность в условиях Гражданской войны чётко разграничивать борьбу со шпионажем и с контрреволюцией привели к длительной борьбе за контроль над контрразведкой.
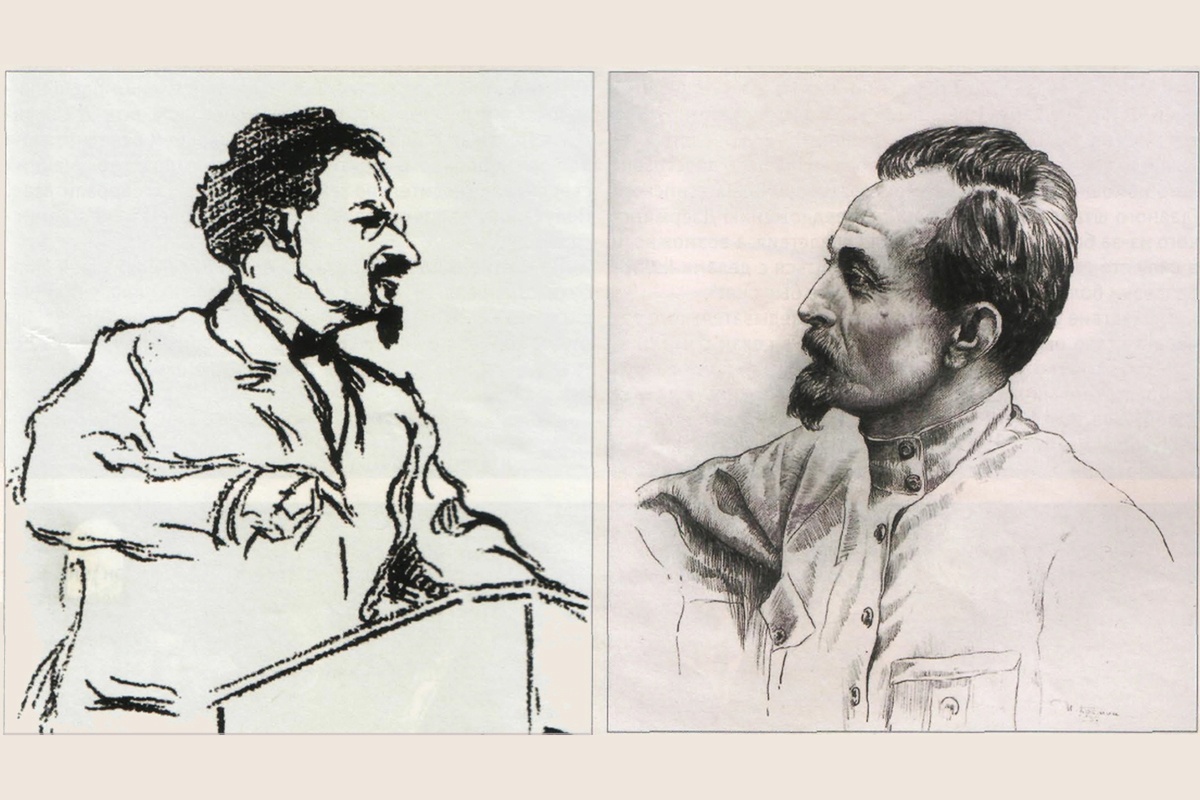
из архива журнала "Родина"
Л. Д. Троцкий (рисунок Ю. К. Арцыбушева) и Ф. Э. Дзержинский.
Уже 7 января 1918 года Ф. Э. Дзержинский написал записку в Совнарком с просьбой включить в повестку дня одного из ближайших его заседаний пять вопросов, в том числе "о контрразведке"1. 8 января этот вопрос стоял в повестке дня заседания советского правительства, однако обсуждён не был. Такая ситуация повторилась на всех последующих тринадцати заседаниях СНК вплоть до 25 января включительно2. С 27 января вопрос о контрразведке и другие вопросы, поднятые Дзержинским, и вовсе исчезли из повесток дня правительства, зато по инициативе члена Совнаркома, а также члена коллегий НКВД и НКЮ левого эсера В. А. Алгасова в них появился новый пункт: "Об образовании особой комиссии при Совете Народных Комиссаров для усиления мер борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и проч. в составе Урицкого, Трутовского и Алгасова"3. Он также не был рассмотрен, но оставался в повестках дня правительства вплоть до 21 февраля 1918 года.
В первые месяцы советской власти, несмотря на свой высокий статус - "при СНК", ВЧК являлась лишь одной из многих комиссий, боровшихся против контрреволюции, и при этом подвергалась острой критике со стороны левых эсеров, Наркомюста, Московского и других Советов, общественности, и даже у большевистского руководства далеко не всегда встречала понимание. Не могло не сказываться и то, что Дзержинский, будучи "левым коммунистом", гневно осуждал Ленина за стремление заключить сепаратный мир с немцами4.
26 января 1918 года ВЧК, обсудив вопрос "о военной разведке" (по традиции понятия разведки и контрразведки тогда не всегда дифференцировались), поручила Д. Г. Евсееву и В. А. Александровичу "ликвидировать контрразведку. Опечатать все дела учреждения и создать новую разведку". Более того: на этом же заседании было решено создать чрезвычайные комиссии при ряде наркоматов, включая и "военный комиссариат"5. Но комиссии эти в большинстве своём созданы не были, Наркомвоен и контрразведку чекистам "не отдали".
9 марта заведующий отделом по борьбе с контрреволюцией И. Н. Полукаров предложил ввести представителя ВЧК в Коллегию Красной армии, но чекистское руководство отклонило эту идею. 21 марта ВЧК обсуждала дело арестованного помощника начальника контрразведки Всероссийского Главного штаба Каменского, но по предложению Дзержинского из-за большого материала для следствия, а возможно, и в силу его стремления лучше ознакомиться с делами контрразведки большинством голосов вопрос был снят6.
Отсутствие у ВЧК серьёзного контрразведывательного аппарата стало ощущаться особенно остро в связи с негативным развитием отношений с Германией, опасениями разрыва Брестского мира. 9 апреля 1918 года, рассмотрев доклад заведующего отделом по борьбе с контрреволюцией И. Н. Полукарова о развитии немецкого шпионажа, в особенности в пограничной полосе, ВЧК одобрило его предложение "снестись с тов. Троцким, взять в ведение Комиссии аппарат контрразведки". О готовности к компромиссу говорило и то, что они предлагали оставить контрразведку "под руководством самостоятельного заведующего"7.
Определённая подготовительная работа началась, но соглашение с военными властями достигнуто не было. И дело не только в ведомственных амбициях: у военных и чекистов были разные цели и представления о задачах контрразведки. Если первые стремились добиться от контрразведки прежде всего борьбы со шпионажем, то вторые контроля за Красной армией, особенно за её командным составом, в котором огромную роль играли представители старого офицерства8.
26 апреля ВЧК рассмотрела вопрос "о порядке наблюдения за генералитетом во вновь формируемой Советской армии и координации в этом отношении мероприятий ВЧК с политическими комиссарами частей". В постановлении подчёркивалось: "Осуществление разведки сосредоточить исключительно в руках ВЧК с обязательным условием осведомления по мере надобности политических комиссаров о полученных сведениях относительно тех или иных лиц из генералитета". Полукарову предписывалось "устроить совещание с комиссарами"9.
Прибытие в Москву посла Германии Вильгельма фон Мирбаха 23 апреля 1918 года дало новый толчок опасениям чекистов. Уже 28 апреля на экстренном заседании ВЧК в ходе отчёта отдела по борьбе с контрреволюцией произошла острая дискуссия. Полукаров отметил "концентрацию контрреволюционных сил около Мирбаха" и признал, что "для наблюдения и разведки за контрреволюцией, надвигающейся извне, нет соответствующего аппарата". Даже "разведка над внутренней контрреволюцией" "далеко несовершенна в смысле персонального характера состава. Необходимо произвести коренную ломку всей организации разведки по специальностям". Дзержинский отделался общими тезисами: предложил направить усилия на борьбу с контрреволюцией прежде всего со стороны Германии и "союзников", а также указал, что "контрразведка должна быть сосредоточена целиком в руках ВЧК" и что нужно максимально привлекать массы к работе комиссии.
Левый эсер Г. Д. Закс подчеркнул, что в первую очередь строгий контроль должен быть установлен "над самим Полукаровым, недостаточно талантливым в деле организации". И. С. Кизельштейн отметил: "...взять на себя организацию всей борьбы с контрреволюционными элементами ВЧК не в состоянии: возможна лишь узкая специфическая охранная борьба и широкая информация о контрреволюционном движении. Евсеев предложил "организовать контрразведку по Германскому плану". В итоге отделу было поручено "выработать тезисы и детальный проект организации борьбы с контрреволюцией и в письменном виде в ближайшее время представить на рассмотрение комиссии"10. Насколько известно, такой доклад подготовлен не был (или же его содержание не устроило Дзержинского).
Тем не менее определённые шаги в сфере контрразведки чекисты предпринимали. 3 мая после сообщения Полукарова "об опасном положении в Курске" ВЧК послало В. П. Янушевского вместе с разведчиками для организации там контрразведки. 20 мая ВЧК обсудила и приняла письменный доклад Евсеева "о делегировании его в Главный штаб контрразведки для связи"11. Но сколь-нибудь существенных результатов добиться не удалось. Встречая непонимание, Дзержинский просится в отставку. 18 мая на заседании ЦК РКП(б) он поднял вопрос о "собственной усталости и проч.", а на следующий день ЦК вновь заслушал "сообщение Дзержинского о необходимости дать в Чрезвычайную Комиссию ответственных товарищей, могущих заменить его"12.
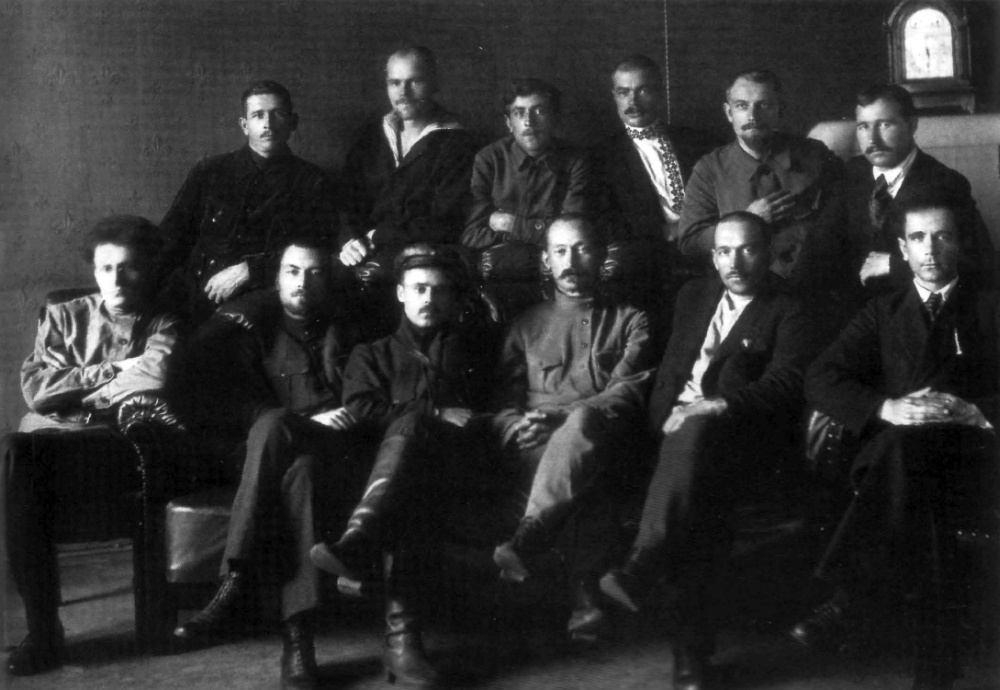
Однако большевистское руководство не пошло навстречу ВЧК. В мае 1918 года при Оперативном штабе Наркомвоена (с осени - при Реввоенсовете Республики) был создан Военный контроль, в функции которого входили не только разведка, борьба со шпионажем, но и наблюдение за "военными специалистами".
Дзержинский также предпринял шаги по созданию собственных контрразведывательных структур. Ещё в начале января 1918 года, как установил А. А. Зданович, по предложению бывшего агента царской разведки и контрразведки К. А. Шеваро (Войцицкого) он санкционировал создание Контрразведывательного бюро (КРБ) ВЧК. Уже 5 января Шеваро получил от Дзержинского первые 12 удостоверений личности. Удостоверение N505 на имя самого Шеваро свидетельствовало, что он является "заведующим секретной разведкой и контрразведкой" при ВЧК и что военные и гражданские власти должны оказывать ему "законное содействие"13. 8 января Шеваро получил от Дзержинского 10 удостоверений "по разведке", 11 - "по контрразведке", а ещё 8 - "на право задержки контрабанды". Контрразведывательное бюро располагало штатом в 35 человек, включая 25 агентов, и действовало в Петрограде и Финляндии.
Однако деятельность КРБ встречала не только внешние, но и "внутренние" трудности14 и была свёрнута из-за того, что командир отряда матросов, прикомандированных к Шеваро, А. Я. Поляков, безосновательно заподозрив своего начальника в измене, 15 марта 1918 года арестовал, а затем расстрелял его якобы при попытке к бегству15. Впрочем, Дзержинского это не сильно опечалило, и уже 18 марта ВЧК постановила: "Принять отряд матросов для обслуживания Комиссии. Начальником отряда назначить Полякова"16.
Почти одновременно с Шеваро Дзержинский направил в Финляндию с разведывательными и контрразведывательными задачами и своего агента А. Ф. Филиппова. Тот обследовал военные контрразведывательные подразделения в Финляндии и Ревеле и призвал к скорейшей реорганизации контрразведки. В марте он вернулся, вскоре ему предложили стать главным экспертом по составлению устава военной контрразведки. 9 апреля ВЧК, не без некоторых сомнений, приняла его на службу17, однако в начале июня Филиппов был арестован Петроградской ЧК якобы по причастности к антибольшевистской организации "Каморра народной расправы". Никаких улик против него не нашлось, но до 3 сентября 1918 года он просидел в "Крестах". Вторая попытка использования "старых", некоммунистических, кадров для создания (реорганизации) контрразведки также провалилась из-за обострённого "классового чувства" чекистов.
Ещё одна попытка Дзержинского была связана с организацией контрразведки "по немецкой линии" на базе Центральной уголовно-следственной комиссии при Совнаркоме Союза коммун Северной области в Петрограде. Председателя этой комиссии Б. Орлинского (В. Г. Орлова) Дзержинский хотел сделать начальником контрразведки ВЧК, однако петроградские большевики его не отпустили18.
С марта 1918 года локальную поначалу контрразведывательную структуру на базе своего отряда начали развёртывать левые эсеры, в частности зампред ВЧК В. А. Александрович. 31 марта ВЧК, обсудив вопрос "об отпуске 36 000 руб. для контрразведочного отделения при штабе Красносоветского финляндского отряда (отряда Попова)"19, постановила временно задержать ассигнования "впредь до выяснения качественного состава состоящих в отряде контрразведчиков" и "признать необходимым объединение всех состоящих при комиссии отдельных отрядов разведки и присоединиться к ним, в случае положительных результатов выяснения, к.-р. отряда Попова (15 чел.). Признать необходимым, чтобы борьба со шпионажем и контрразведка проводились под наблюдением ВЧК"20.
Настойчивость Александровича вскоре начала приносить результаты. 5 апреля на заседании ВЧК слушали вопрос "о создании команды контрразведчиков из товарищей, находящихся в отряде Попова, причислив их к комиссии, о необходимом для того субсидировании и организации разведки вообще". В итоге С. П. Чернову и Алгасову было поручено "совместно с представителями от политических отделов выяснить качественный и количественный состав агентов разведки и контрразведки, а также разработку всех организационных вопросов"21.
13 апреля ВЧК обсудила доклад Д. И. Попова "о финансовом положении команды контрразведчиков, понесших значительные расходы, исполняя обязанности при обслуживании комиссии". Это свидетельствовало о том, что к тому времени определённую деятельность левоэсеровские контрразведчики уже вели. ВЧК постановила "после формальной проверки счетов в установленном порядке" оплатить понесённые расходы. Более того, было решено считать отряд Попова основным для ВЧК, а остальные отряды "влить" в него22.
Хотя последнее решение не было выполнено, очевидно, что усилия левых эсеров не пропали даром и какая-то контрразведывательная структура в ВЧК появилась если не с марта, то с апреля 1918 года. (Не исключено, что были реанимированы остатки контрразведывательного бюро Шеваро). Примечательно, что 18 апреля в протоколах ВЧК встречается термин "бюро контрразведки при ВЧК", а М. Я. Лацис в орготчёте ВЧК пишет о том, что в апреле 1918 года в отделе по борьбе с контрреволюцией ВЧК, который он возглавил с мая того же года, было создано "отделение специально для борьбы с контрреволюцией в военной среде". Данная структура носила зачаточный характер, была весьма слаба, не имела своих органов на местах и большевики ей не доверяли23.
Тем не менее принятое в историографии положение о том, что контрразведывательное отделение (с целью прежде всего противодействия германскому шпионажу) в составе отдела по борьбе с контрреволюцией ВЧК было создано лишь в начале июня 1918 года24, нуждается в уточнении. Если и не само отделение (Лацис мог запамятовать), то предшествующая ему структура существовала уже в апреле. Характерно, что начальником этого отделения был назначен представитель партии левых эсеров Я. Г. Блюмкин. То, что столь важный пост был отдан представителю партии левых эсеров (уже вышедшей из состава СНК и по-прежнему стремившейся к революционной войне с Германией), свидетельствовало в пользу того, что именно на основе (или с использованием) их контрразведки и было создано это отделение.
Дзержинский и Лацис утверждали, что уже в конце июня - начале июля отделение контрразведки было ликвидировано. Дзержинский объяснял это произволом Блюмкина, а Лацис - жалобами его сотрудников и межпартийными противоречиями, в частности, "большим стремлением" Блюмкина "к расширению отделения в центр Всероссийской контрразведки", он не раз подавал в ВЧК свои проекты, "но там голосами большевиков [они] были провалены. В моём отделе я Блюмкину не давал ходу"23. Известно, что 1 июля Блюмкин, как представитель от ВЧК, ещё участвовал в заседаниях Комиссии по организации разведывательного и контрразведывательного дела, созванной Наркомвоеном. 4 июля он сдал, а 6 июля беспрепятственно взял у Лациса обратно дело Мирбаха. Дата ликвидации контрразведывательного отделения остаётся дискуссионной. Протоколы ВЧК, на которые ссылаются Дзержинский и Лацис, отсутствуют.
11 июня 1918 года Первая конференция ЧК заявила о монополизации всей борьбы с контрреволюцией. 12 июня коммунистическая фракция этой конференции постановила: "Взять на учёт и установить слежку за генералами и офицерами, взять под наблюдение Красную армию, командный состав..." Эти решения в какой-то мере отразились и в ряде официальных постановлений конференции. В частности, в положении об отделе борьбы с контрреволюцией указывалось, что секретное отделение данного отдела "ведёт борьбу со всеми контрреволюционными организациями..." и "ведёт наблюдение за армией, за всем её командным и личным составом, беря весь таковой на учёт". Инструкция пограничным ЧК и комиссарам обязывала их вести наблюдение за иностранными разведчиками и противодействовать им25.
Однако на деле была санкционирована лишь начавшаяся кое-где ещё до конференции организация контрразведывательной работы в воинских частях, где не было военного контроля. 16 июля СНК постановил создать ЧК на Чехословацком (Восточном) фронте. 29 июля при отделе борьбы с контрреволюцией ВЧК был организован военный подотдел, который возглавил Янушевский. В августе на Восточном фронте началось создание армейских ЧК. 28 ноября ІІ конференция ЧК постановила "организовать при всех фронтах и армиях в действующей армии... ЧК и предоставить им право назначения отдельных комиссаров для этой цели в ту или иную воинскую часть"26. 9 декабря 1918 года при ВЧК был образован Военный отдел во главе с М. С. Кедровым, а при нём Военно-регистрационное бюро, которое взяло на учёт комсостав РККА.
12 ноября на совещании в РВСР с участием Дзержинского было достигнуто соглашение о реорганизации Военного контроля путём слияния его с армейскими ЧК и создания особого отдела, который должен был заниматься и агентурной разведкой, и контрразведкой, и выявлением контрреволюционных элементов в армии. Проблема его подчинения не была обозначена. Чекистам помогли их настойчивость и поражения на Южном фронте, после которых ЦК потребовал "железной рукой заставить командный состав... выполнять боевые приказы ценою каких угодно средств" и "повысить уровень контрразведывательной работы в воинских частях и военных учреждениях". Главным образом силами чекистов в ноябре-декабре 1918 года была проведена ревизия органов Военного контроля, выявившая там крупные недостатки (предполагавшейся ревизии армейских ЧК осуществлено не было). Чекисты предложили упразднить Военный контроль, слив его со своими органами. Однако военное командование выступило против.

С момента объявления красного террора и до начала ноября 1918-го в заложниках оказалось не менее 8 тысяч бывших офицеров. ЧК арестовывали практически всех офицеров, не состоявших на службе у советской власти27, a нередко и тех, кто служил в Красной армии. Чекисты (как и часть большевистской партии) не смирились с массовым привлечением офицеров в Красную армию и с тем, что Троцкий пытался оберегать их от блюстителей чистоты социального происхождения. 13 октября 1918 года, в самый разгар красного террора, Наркомвоен потребовал освобождения всех офицеров, взятых в заложники. 25 октября ЦК РКП(б) поддержал это предложение. При этом были сделаны две существенные оговорки: освобождаются лишь те офицеры, "относительно которых не будет обнаружена их принадлежность к контрреволюционному движению"; при приёме в РККА офицеры "должны представить список своих семейств и им указывается, что семья их будет арестована в случае перехода к белогвардейцам"28.
Военные небезосновательно опасались, что ЧК могут дезорганизовать армию, которая и так испытывала, по выражению Троцкого, "кризис с командным составом". В сравнении с этим многочисленные измены "военспецов" казались меньшим злом. Реввоенсоветы стали реорганизовывать военный контроль, создавать особые отделы и упразднять армейские ЧК. 3 декабря 1918 года на заседании комиссии Совета обороны под председательвом Ленина рассматривался вопрос "об освобождении офицеров и инженеров, о порядке ареста военнослужащих и советских служащих вообще". Принятые меры дали определённый эффект, но проблемы не разрешили.
13 декабря члены Реввоенсовета и ВЧК договорились объединить Военный контроль и армейские ЧК, введя в коллегию ВЧК представителя РВСР. 19 декабря Бюро ЦК постановило "согласится с предложением, выработанным при Реввоенсовете", и назначило заведующим Военным контролем Кедрова (с оговоркой: "если не встретится возражений со стороны Реввоенсовета"). Поручение Троцкому "переговорить с Реввоенсоветом" свидетельствовало о том, что данное назначение являлось компромиссом (чекист Кедров ранее работал в системе Военного ведомства). Кроме того, по заявлению Троцкого, ЦК счёл невозможной работу Лациса в военном контроле29. Ни о каком Военном или Особом отделе ВЧК, как до сих пор встречается в литературе, на этом заседании не было и речи.
Дискуссии вокруг реальной подчинённости объединённого Военного контроля продолжились, причём не только в виде докладов и переговоров. Как один из эпизодов взаимоотношений военных и чекистских властей можно рассматривать и реорганизацию охраны, кадрового состава сотрудников знаменитого поезда Троцкого (начатую ещё до заседания Бюро ЦК), в ходе которой чекисты не только взяли охрану под свой контроль, но и наглядно продемонстрировали председателю РВСР свою полезность и надёжность30.
В свою очередь, Троцкий 25 декабря 1918 года переслал Дзержинскому доклад старшего наблюдателя Зерновского военного контрольного пропускного пункта Гандлера "О преступных действиях агентов пограничной ЧК", в котором приводились факты коррупции, вымогательства и вопиющего непрофессионализма чекистов31. Президиум ВЧК, обсуждая 30 декабря вопрос о Военконтроле, поручил Лацису, Фомину и Кедрову "выяснить, какова инструкция на местах", и отдельно обсудить эту проблему. 30 декабря Троцкий вновь выступил с заявлением о том, что "огульные, нередко несправедливые нападки на военных специалистов из бывших кадровых офицеров, работающих ныне в Красной армии, создают в некоторой части командного состава настроение неопределённости и растерянности".
Переговоры военных и чекистов ещё не были закончены, когда 1 января 1919 года телеграмма Кедрова возвестила о создании и начале работы Особого отдела республики, объединившего Военный контроль и Военный отдел ВЧК. В структурном и во многом в кадровом отношении он был создан на основе Военного контроля. Однако вскоре чекисты сменили всё его руководство и большинство сотрудников. 4 января "военная цензура и военная агентура разведки" были выделены и переданы Региструпру РВСР.
Именно 1 января 1919 года, а не 19 декабря 1918-го, называлось в орготчёте ВЧК датой рождения Особого отдела ВЧК. Однако и эта, в общем-то реальная, дата всё же не совсем корректна, поскольку проблема подчинённости, взаимоотношений Особого отдела с ВЧК с военным ведомством всё ещё не была урегулирована! Окончательно чашу весов в пользу ВЧК склонила пермская катастрофа, в ходе которой на 500-600 офицеров, насчитывавшихся в 3-й армии, за январь-февраль 1919 года ЧК и ревтрибуналы зафиксировали до 100 "измен", из них около 50 случаев перехода на сторону противника. К тому же в ходе её расследования Дзержинский мог заручиться поддержкой Сталина.
3 февраля Троцкий, Аралов и Дзержинский подписали постановление, в котором Особый отдел закреплялся за ВЧК, но отмечалось, что он "непосредственно под контролем Реввоенсовета Республики выполняет все его задания". Фронтовые и армейские особые отделы подчинялись соответствующим реввоенсоветам. Это постановление было затем утверждено ВЦИК в качестве "Положения об особых отделах при ВЧК". 13 мая 1919 года Совет обороны передал особые отделы фронтов и армий в подчинение одного из членов соответствующих реввоенсоветов32. По существу, эти органы находились в двойном подчинении - РВС и ВЧК. 24 июня Политбюро и Оргбюро ЦК подтвердили прежнее решение, но добавили, что заведующие особых отделов назначаются реввоенсоветами по соглашению с ВЧК. Оргбюро совместно с Дзержинским поручалось "найти ответственных руководителей" для особого отдела ВЧК33.
Кедров плохо справлялся со своими обязанностями и стремился к независимости не только от военных структур, но и от ВЧК34. (Причём отношения с Дзержинским стали осложняться уже вскоре после создания Военного отдела. Уже 27 декабря ВЧК выступила против наличия у Кедрова собственного поезда - по примеру Троцкого, постановив "сдать его в Комиссариат путей сообщения, ввиду нужды в подвижном составе"35.) 18 августа 1919 года Особый отдел возглавил сам Дзержинский.
- 1. Остальные касались декретов "о саботажниках" и "о преступлениях лиц на должностях советской власти", разоружения буржуазии и отчёта ВЧК. Протоколы заседаний Совета Народных Комиссаров РСФСР. Ноябрь 1917 - март 1918 гг. М. 2006.
- 2. Повесток дня шести из этих заседаний СНК не сохранилось, но из общего контекста очевидно, что эти вопросы Дзержинского (сначала 5, а потом 3 - без "саботажа" и "отчёта ВЧК") в них оставались.
- 3. Протоколы СНК РСФСР. С. 300. В повестке дня следующего заседания правительства состав этой комиссии был обозначен: Урицкий и Агласов, но затем в нём вновь появился нарком по местному самоуправлению левый эсер В. Е. Трутовский.
- 4. Он называл это капитуляцией и сравнивал позицию главы СНК с поведением Л. Б. Каменева и Г. Е. Зиновьева перед Октябрьской революцией. См.: Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б). Август 1917 - февраль 1918 г. М. 1958. С. 172.
- 5. Архив ВЧК. М. 2007. С. 161.
- 6. Там же. С. 174, 186.
- 7. Там же. С. 207.
- 8. 11 июня 1918 г. на Первой конференции ЧК член коллегии ВЧК Полукаров, докладывая "о деятельности комиссии со дня её образования", подчёркивал, что "цель буржуазии разложить нашу армию... но нам как органу политической борьбы необходимо взять на себя наблюдение за армией... Мы должны иметь в виду, что и вновь формируемые отряды могут перейти на другую сторону. Путём террора нужно заставить контрреволюционеров покинуть ряды нашей армии". Архив ВЧК. С. 87.
- 9. Архив ВЧК. С. 231.
- 10. Там же. С. 236, 237,
- 11. Там же. С. 242, 254.
- 12. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 1. Л. 12-12 об., 15.
- 13. ЦА ФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 18. Л. 16-20.
- 14. Эти удостоверения давали лишь право на беспрепятственный проезд по России и Финляндии, а срок их действия был ограничен 1 марта 1918 г. ЦА ФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 18. Л. 21.
- 15. См.: Зданович А. А. Отечественная контрразведка (1914-1920). Организационное строительство. М. 2004. С. 114-120; Он же. Интриги разведки. М. 2005. С. 86-91; Его же. Четыре попытки Дзержинского. www.fsb.ru.
- 16. 31 марта 1918 г. последовало новое решение по отряду Полякова: "Включить в состав отряда при Оперативном штабе комиссии... Специальные команды отряда влить в соответствующие команды, состоящие при Комиссии". Лишь после учинённых в ночь на 5 апреля членами отряда Полякова безобразий (пьянство и стрельба в извозчика) ВЧК постановила расформировать и строжайше профильтровать отряд, "преступных предать суду - остальных причислить к общему отряду Комиссии, причём состоявших в отряде Полякова не назначать в качестве разведчиков". Решение о расформировании отряда Полякова было продублировано ВЧК и 26 апреля, но отряд ещё долго сохранялся и участвовал в событиях 6 июля 1918 г. - Архив ВЧК. C. 175, 196, 205, 231.
- 17. О сомнениях чекистов говорит сама формулировка вопроса: "Об осведомителе Филиппове, ранее работавшем у тов. Дзержинского и ныне предлагающем Комиссии свои услуги в том же деле" и особенно постановление ВЧК: "...принять под ответственность тов. Дзержинского". Архив ВЧК. С. 208.
- 18. Кроме того, Дзержинский лично организовал агентурную группу - "организацию Штегельмана" - для работы против немцев. Зданович А. А. Отечественная контрразведка (1914-1920). C. 118-119.
- 19. В соответствующей выписке из черновой протокольной книги ВЧК речь шла о 26 000 руб. Однако в любом случае это было существенно меньше финансовых затрат на контрразведку Шеваро, которые последний оценивал в более чем 80 000 руб. в месяц. См.: Левые эсеры и ВЧК. Сб. док. Казань. 1996. С. 57; Зданович А. А. Интриги разведки. С. 88.
- 20. Архив ВЧК. С. 195.
- 21. Кроме того, ВЧК постановила создать "специальные курсы и лекции при Комиссии для разведчиков и комиссаров при участии опытных руководителей, но при обязательном условии недопущения в качестве лекторов на них бывших охранников и жандармов". Архив ВЧК. С. 204.
- 22. Хотя последний пункт в дальнейшем вызвал недовольство среди других отрядов. Архив ВЧК. С. 209, 210, 222-225.
- 23. Там же. С. 220, 236; Отчёт ВЧК за четыре года её деятельности. Первая организационная часть. М. 1922. С. 64.
- 24. Красная книга ВЧК. Т. 1. М. 1990. С. 257. Косвенным подтверждением этому может служить найденная в портфеле Блюмкина на месте убийства Мирбаха папка: "Бумаги по ликвидации отделения". См.: Левые эсеры и ВЧК. Казань. 1996. С. 83.
- 25. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 4. Д. 194. Л. 3; ЦА ФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 77. Л. 41, 43, 52-53.
- 26. ЦА ФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 80. Л. 6.
- 27. Ссылки на то, что это было соответствующее распоряжение ВЧК, сохранились в документах некоторых ЧК. См.: ЦА ФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 83. Л. 100.
- 28. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 5. Л. 1 об.
- 29. Там же. Д. 7. Л. 1-1 об., 3-3 об.
- 30. ЦА ФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 62. Л. 14-23.
- 31. Там же. Л. 28.
- 32. Лубянка. Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД- МГБ-МВД-КГБ. 1917-1991. М. 2003. С. 330, 331.
- 33. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 13. Л. 1.
- 34. Кедров не уделял должного внимания налаживанию работы своего отдела, зато был ярым приверженцем методов красного террора и допускал аресты крупных военных чинов без согласования с РВСР. См.: Зданович А. А. Становление и развитие Особого отдела ВЧК (1918-1919 гг.). М. 2000. С. 30-50.
- 35. Архив ВЧК. С. 308. Тем не менее своим поездом Кедров всё же обзавёлся.
Подпишитесь на нас в Dzen
Новости о прошлом и репортажи о настоящем